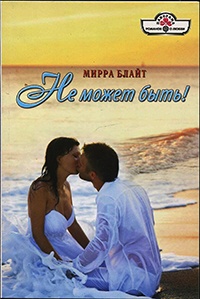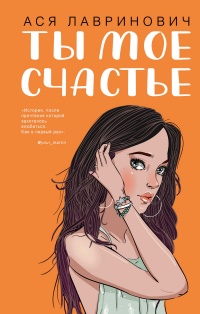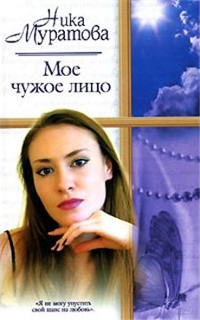Позже убирают белую завесу, женщина в медицинском халате и носках волочит по полу экран театра теней. Остается только младенец, сморщенный, как старое яблоко, и засунутый в шерстяной комбинезончик, который похож на свалявшийся носок.
Я смотрю на него при неверном свете, а ссыпавшийся в ноги песок снова поднимается по телу, и все внутри возвращается на свои места. Вот я уже почувствовала сердце: язык пламени, сгусток боли между ребрами.
Об этом мне тоже надо будет рассказать Пьетро? О том, что он вернул мне сердце, которое умерло было, а потом забилось опять?
Женщина возвращается, давит на живот Аски, просовывает руки под одеяло. И овечка извергает из себя плаценту.
Пока женщина вытаскивает стальной контейнер из-под тела Аски, мельком вижу ее ногу, испачканную в крови, и влагалище, кровоточащую дыру, как у Гойко во рту. На меня это не производит никакого впечатления. У жизни те же цвета, что и у войны: снег и кровь. Маршруты, проложенные по грязи, похожи на кишки.
Женщина поравнялась со мной, и на какую-то долю секунды я увидела ту серую кожуру. Теперь овечка уже не нужна, как и внутренняя кожица, приютившая ребенка; сейчас ничего другого не остается, как только выбросить эту гадость.
Мне надо бы пожалеть ее, а я боюсь, что она передумает, начнет кричать, что не может, не согласна.
Она потеряла всю свою семью, наверняка захочет оставить ребенка себе.
Я не доверяю ей, поэтому за ней наблюдаю: как бы не разволновалась, не передумала. Ведь я уже вдохнула запах ребенка, запах кровинки Диего.
Помню слова Велиды, ее одержимый взгляд, который снится мне каждую ночь. «Не бери с меня пример, не мирись со смертью. Борись, Джемма, хватайся за жизнь».
Деньги… надо отдать ей деньги, марки мелкими купюрами, как она просила, точно премию, которую выдают снайперам за каждую пораженную цель. Тоже купит себе машину «БМВ» с откидным верхом и уедет на ней.
Я снова стала собой. Для меня война кончилась. Небесно-голубой ребенок похоронен. А сын Диего жив. Эта овечка, эта героиня второго плана должна исчезнуть, так же как недавно отпала ее плацента, грязная кишка.
Здесь нет законов, нет справедливости. Существует только дерзость.
Гойко орет, что дома сочинит стихотворение, он уже давно ничего не писал и теперь отпразднует рождение этого ребенка. Декламирует пьяным голосом:
У меня свиные копытца и мышиный хвост,
Жизнь тащит меня наверх, как летающего слона…
Прощайте, призраки, сегодня я не с вами…
— С кем же ты сегодня?
Делает еще глоток.
— С вами, друзья мои.
Но на самом деле мы все похожи на призраков: глядимся в металлический колодец и оплакиваем свою жизнь.
Я пошла в туалет, сняла рюкзак с живота, села на унитаз и отдала Гойко пачку в тысячу марок:
— Зачем они тебе?
Вместе с деньгами он забрал наши паспорта:
— Я быстро.
Вытряхнув все из рюкзака в пустую наволочку, я подошла к кровати Аски:
— Вот.
Усталым движением она подтянула наволочку, набитую марками, к себе и спрятала под одеялом.
Младенец лежал в металлической кроватке, далеко от матери. Акушерка подвернула ему тряпку под спину и так оставила. Он ни разу не пошевелился. Послышались взрывы, все ближе и ближе, потом отдельно начали бить катюши. Малыш привык к этим звукам, они его не тревожили. Аска тоже спала, забравшись с головой под одеяла. Проснулась пару раз за все время, и то чтобы попить.
Пришла другая женщина, моложе первой, показала нам, как обращаться с ребенком, как его пеленать. Вытащила из вязаного комбинезончика две худенькие маленькие ножки, толщиной с палец Диего, и показала, как подложить подгузник. У них, правда, не было никаких подгузников, так что она дала нам марлю и рулоны ваты. Ребенок до сих пор не проголодался. Ни разу не заплакал, пока его вертели, как сверток. Сейчас он снова лежит в кроватке с тряпкой под спиной.
Девушка спросила, будет ли мать его кормить, я отрицательно покачала головой. Привыкшая к обессиленным женщинам, она молча посмотрела на тело Аски в кровати. Попросила нас заплатить сто марок, извинилась, ей было неудобно брать с нас деньги, но что поделаешь, она не себе. Принесла уже открытую упаковку порошкового молока и использованную бутылочку. Стеклянную. Первая неразбитая вещь из стекла за долгое время. Я сунула все в рюкзак.
Теперь война становилась нашей помощницей. Никто не задавал нам вопросов, никто, казалось, не был заинтересован в том, чтобы задерживать новорожденного в больнице, так близко от линии огня. Нам, как иностранцам, легко было уехать из города, из которого никто из них не мог вырваться. Девушка спросила, как мы повезем ребенка.
— Мы полетим на самолете… ждем.
— Вы журналисты?
— Да.
Она дала нам письмо для своей сестры, находившейся в центре приема беженцев в Милане.
Опять начались взрывы, отчаянные выезды «скорой помощи», других отважных водителей, которые подбирали раненых. Давно уже день сменил ночь, но ребенок не просыпался.
Наконец-то Диего посмотрел на него.
Но об этом его взгляде я обязательно расскажу Пьетро, опустив остальное, расскажу о его глазах. Глазах собаки, смотрящей на другую собаку. Вот они, наши рождественские ясли, сумасшедший взгляд, дрожащие руки, бегающие мысли.
Гойко вернулся с мужчиной, который вызвался нам помочь; он притворяется героем, чудом выжившим, как те, кто продает истории журналистам из «Холидей-Инн». Вечером в Италию улетает гуманитарный самолет, этот тип побывал на командном посту ООН, и ему удалось внести нас в список. Отдает паспорта и свидетельство о рождении ребенка, этого достаточно, чтобы пройти контроль. Читаю слова на чужом языке и наши имена. Рядом со словом otac, отец, написан Диего, и рядом с majka, мать, — я.
Такое банальное, обыденное чудо кажется мне нереальным.
Обнимаю Гойко:
— Как тебе удалось?
Никто не заполнил справку о пребывании в больнице, потому что бланки закончились. Достаточно было наших паспортов и денег.
Гойко разрешает трясти себя как мешок.
— Сейчас много чего легко устроить…
Он ни за что бы не воспользовался ситуацией, он один из тех, кто на черном рынке дерется со спекулянтами — шакалами, кормящимися войной. Но для меня сделал исключение. И теперь, скорее всего, никогда не захочет больше меня видеть.
Аска сидит на кровати. Прижимает к себе наволочку, полную марок. Чувствует себя лучше, хотя следы анемии видны на ее пожелтевшем лице.
— Спасибо, — сказала я ей.
Она кивнула и, может быть, собралась наконец расплакаться, но времени было мало.