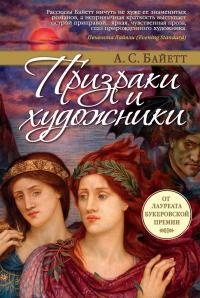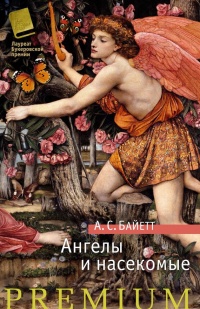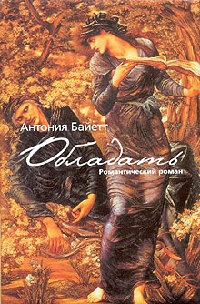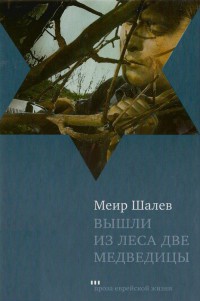Узлом духовным руки и сердца…
Смотрите, как он чудно наслаивает схожую грамматику! Я люблю, когда слои раздельны.
Александр подумал, что ужасное дитя неустанным напором умудрилось навязать ему некое подобие давней доверительной близости, отвергнуть которую он не мог от избытка воспитания. Более того, отвергнуть значило бы признать ее и тем самым лишь усугубить. К тому же сказанное Фредерикой было не лишено интереса.
– Это в самом деле неправда? – спросил он с оглядкой, проверяя, не подслушивают ли их.
– От первого до последнего слова! Просто набор клише – именно тех, которые ей неприятней всего. Все, кто ее знает, это поняли.
– Я должен был помешать ему прийти.
– Но согласитесь, в этом есть некий жуткий драматизм.
Пирог с колоннами был разобран на слои и разрезан. Рядом с его крошащимися руинами вяли на солнце букеты невесты и подружки невесты. Сквозь чуть примятые уже, обмякшие цветы кое-где проглядывала проволока. Гости намекали, что молодым пора удалиться, и потихоньку теснили их к выходу. И они ушли, сперва под гору крутым переулком, потом через Дальнее поле до Учительской улочки, где в доме Поттеров им предстояло переодеться. Поскольку денег на медовый месяц не было и они никуда не ехали, гости махали им от входа в сад. С ними шли только Поттеры и мать Дэниела. Александр тоже пошел было, но у железнодорожного моста остановился и решил повернуть назад. Он никому не был ни отцом, ни женихом, ни родственником. Он был тут не нужен и порядком устал к тому же.
И вот он стоял и смотрел, как под ярким солнцем они идут гуськом: кто машисто, кто трусцой – по Дальнему полю, мимо Уродского прудика, под стойками ворот на той стороне. Черный Дэниел, белая Стефани, тонкая, золотистая Фредерика спешит вприскочку, усталая Уинифред, опустила голову в темной шляпке-шлеме, Билл извилисто петляет по полю, мешая другим, миссис Ортон ковыляет, дергая плечами и поматывая головой. Последним шагает Маркус, высокий, худой как палка, в своем темном костюме, с соломенно-гладкими волосами, зачесанными назад.
Фредерика оглянулась в поисках Александра. Он помахал ей и жестом показал, что уходит. Александр вспомнил, как стоял здесь в день, когда фестивальный комитет принял его пьесу. Он увидел тогда, что никто и ничто в этом маленьком мире больше не имеет на него влияния и никак его не ограничивает. И от этого мирок и населяющие его люди сделались ему интересны. Но сегодня он пробыл с ними слишком долго, увидел слишком близко. Он почти слился с ними и почти утратил к ним интерес. По мере того как они удалялись, уменьшались, уходили, как манекены, в садовую калитку, сам он дышал глубже, рос, становился реальней. Он вспомнил и другие места: сад в Оксфорде, парковую террасу в Грассе, дорсетские меловые утесы, Булонский лес. Нет, вопреки мимолетной прелести белых роз, тисовой пыльцы и Кранмеровых клятв, много, много что можно сделать интересного, вместо того чтобы довольствоваться одинаковыми домиками на Учительской улочке. Он вспомнил лишенный тайны женский хаос в голой коробке комнаты нынче утром. Вспомнил, как, придя к Дженни, меж нарядных узорчатых занавесок в супружеской спальне увидел крошечный квадратик голубого неба. Он выберется отсюда. Что бы ни случилось, он примет меры и почти наверняка уедет сразу после постановки. На том краю поля скакала желтенькая фигурка, маша чем-то белым. Он снял наконец шелковую шляпу, широко махнул в ответ, снова надел, поправил и двинулся прочь крутым переулком.
31. Медовый месяц
Дэниелу воображалась темнота, но лето стояло в разгаре, и было еще светло. Морли Паркер отвез их с Учительской улочки в район Аркрайт, к жилому комплексу «Эскэм». На подъезде дома́ стояли шеренгами и полумесяцами – чернорабочие дома́ под шиферными крышами, со всех сторон приплюснутые, дымящие угольным дымом. В «Эскэме» было шесть домов, стоявших по три, окаймляя то, что на плане комплекса изображалось как стриженые лужайки с цветущими деревьями. Вместо лужаек оказалась разбуровленная трактором глина и бетонные дорожки в трещинах. Меж глиняных глыб, в гусеничных следах огромных шин проглядывал подорожник, кипрей, тысячелистник и паслен. Их квартира была на первом этаже. При нижних квартирах имелись крохотные задние дворики: квадратики комковатой земли, обведенные проволочной сеткой, с бетонными столбиками и скрипучей металлической калиткой. В верхних были бетонные балконы с железными перилами и сложной сетью бельевых веревок. В кухонное окно виднелись качели: черная шина, подвешенная на узловатой веревке к подобию виселицы, и боярышник, старый, корявый, с почернелой корой, но сейчас – просветно-яркий, весь в зеленых молоденьких листочках. Боярышник был старше дома. Когда бульдозеры с ревом прикатили расчищать место под стройку, его пощадили.
Миссис Элленби оставила молодым ужин, и теперь им нечего было делать. На столе дожидалась курица, салат в стеклянной миске, накрытый тарелкой и влажным кухонным полотенцем, фруктовый салат и бутылка рейнвейна. Было несколько продолговатых булок и свежий, хрустящий белый хлеб, банка растворимого кофе, пачка чая, две бутылки молока, камамбер и эдам. На кружевной салфетке посреди стола красовался в прозрачной вазе большой букет гладиолусов пламенного цвета и записка. В записке говорилось, что свекла в отдельном блюдечке, чтобы не окрасила крутые яйца, а миссис Элленби надеется, что они хорошо отдохнут и дивно проведут время в своем новом доме. Они стояли вместе и моргая, как с непривычки, оглядывали все это и вбирали в себя. Учительский сад и Дальнее поле были ярки и пристально светлы, и теперь маленькая квартирка с окошками, плотно забранными тюлем, казалась тесной и тусклой. Стефани не любила слепую непроницаемость тюля, но приходилось признать, что тут он необходим. Перекрытия были картонные, и она поймала себя на том, что ходит на цыпочках, чтоб за стеной не услышали.
Шло к семи, и Дэниел, искоса оглядывая свой дом и молодую жену, подумывал уже, что стоило, наверно, устроить ужин где-нибудь в ресторане и чтобы были еще какие-то люди. А она стояла очень тихо, не глядя на него.