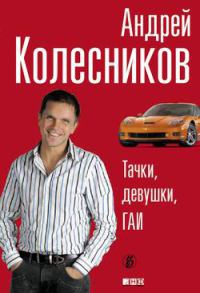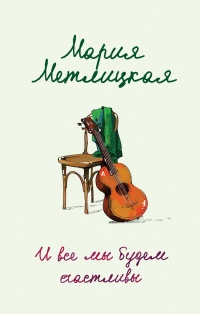А ОБЛАКА ПЛЫВУТ, ПЛЫВУТ
Мы едем по прибрежному шоссе на старое кладбище у подножия горы Кармель. Яир сидит за рулем, а я разглядываю редкие капли, бесшумно стекающие по ветровому стеклу. Включать дворники еще рано. Я снова и снова перебираю в памяти произошедшее и думаю: почему я это сделала? Из жалости? Или потому, что должны были начаться месячные и у меня по всему телу словно бежали иголки? А может быть, из-за той детской песенки с кассеты Наамы? Или потому, что никак не могла забеременеть, была в творческом кризисе и чувствовала, что тону?
Все началось два дня назад. Утром мы, как всегда, попрощались, расцеловались, и они ушли. Сейчас Яир отвезет Нааму в детский сад на соседней улице и поедет на работу. Он преподает в университете на инженерном факультете, читает лекции. Никогда не могла понять, о чем именно. Что-то связанное с сопротивлением материалов. По вечерам он засиживается допоздна и пишет статьи. Надеется получить статус постоянного сотрудника. Я слышала, как они спускаются по лестнице и смеются. Это утро — их и только их; мне в нем места нет. Когда голоса стихли, я пошла в ванную, подошла к зеркалу над раковиной, задрала рубашку и осмотрела грудь. Потрогала соски и окружавшие их темные венчики, проверила, не появились ли новые синие вены, затем приспустила трусы и осмотрела их изнутри. Они были белые. Потом я села на унитаз, помочилась, вытерлась и поднесла бумажку к глазам. Она потемнела, и поры на ней проступили рельефнее, но это были поры, не кровь. Я дважды посчитала на пальцах. Шел двадцать восьмой день. Затем я засунула средний палец во влагалище, вынула его и внимательно осмотрела. Крови не было. Ни снаружи, ни под ногтем. Потом я заварила кофе и поднялась на крышу, в свою студию, стараясь не смотреть на несчастные растения, которые явно не хотели здесь жить, но и умирать упорно отказывались.
Я расставила вдоль стен несколько своих полотен и стала их рассматривать. Над этой серией я работаю последние два года. Думала устроить выставку. За это время ребята, учившиеся на три-четыре года позже меня, уже успели поучаствовать в нескольких групповых и персональных выставках, их работы побывали на биеннале в Сан-Пауло и в Венеции, а я все работаю, работаю, работаю — и конца этому не видно. Два года. Два бесплодных года… Все это время я с помощью шелкографии как безумная копировала на свои холсты изображения зародышей в материнских утробах, сделанные во время сеансов УЗИ. Эти изображения мне дал гинеколог Рони. Особое предпочтение я отдавала зародышам с какой-нибудь патологией. На фотографиях они выглядели как белые пятна. На одном из холстов среди этих пятен, похожих на кур, лягушек, кошек, скелеты динозавров и детенышей кита, я изобразила изуродованные тела солдат и лицо Наамы.
Мои претенциозные, убийственно посредственные творения, обступившие меня со всех сторон, воняли растворителем, и чем больше я на них смотрела, тем яснее понимала: они мертвы. Я заперла дверь студии, спустилась вниз, побросала вещи в сумку и написала записку: «У меня ничего не получается. Уезжаю на несколько дней. Берегите себя. Целую. Мама». Потом захлопнула дверь квартиры и начала спускаться по лестнице, но, пройдя несколько ступенек, остановилась, поднялась обратно, выбросила записку, позвонила маме Мейталь и попросила ее забрать Нааму из садика к себе. Затем позвонила Яиру и сказала, что еду в Хайфу. Он пожелал мне счастливого пути. Вернее, плодотворного пути. Так и сказал: «Плодотворной тебе поездки». Я нарисовала для Наамы ангела, прикрепила его магнитной клубничкой к дверце холодильника и ушла.
Я сидела у окна в поезде на Хайфу и вспоминала осень в Париже два года назад…
…Мы с Яиром, голые, стояли у окна гостиницы на бульваре Шарля Ленуара. Там рос клен. Его зеленые, коричневые и желтые с пятнами ржавчины листья подрагивали на ветру и, растопырив пальцы, медленно, как в рапиде, падали на тротуар.
Небо над крышами цвета базальта постоянно меняло оттенки. То оно было серое, как воск, и сквозь него тщетно пытался пробиться бледный солнечный свет, а то вдруг становилось синим-синим, какого-то божественно-синего цвета, с редкими мазками белых облаков.
Сквозь двойное стекло звуки улицы в номер не проникали. Как рыбы за стеклом аквариума, перед нами в полной тишине проплывали пальто, шляпы и развевающиеся шарфы; раскрывались и закрывались зонтики; мелькали лица. Женские и мужские, морщинистые и юные, бородатые и в очках, улыбающиеся и хмурые — они казались нам одновременно и чужими, и знакомыми, как будто мы уже видели их в каких-то старых фильмах. Люди спешили, переходили дорогу, несли под мышками длинные французские батоны, тащили сумки, вели собак на поводках. Рабочие в оранжевых комбинезонах в полной тишине сверлили асфальт.
Мы открыли окно, и вместе с пронизывающим холодом в номер, как цунами, ворвались звуки улицы — шум машин, грохот отбойных молотков, лай собак, крики на французском языке. И поняли мы, что в этом мире есть своя логика и свой смысл, так же как есть некая загадочная логика в листопаде. И стало нам хорошо. Весь тот день в Париже нам было хорошо. Мы оделись потеплее — шарфы, перчатки и так далее — и пошли пешком в Люксембургский сад. Все вокруг было желтым — и опавшие листья на земле, и солнце, заливавшее своим светом стеклянное здание кафе, и одинокая гербера в вазе на круглом мраморном столике, и пузатые чашки, и мой свитер, и мои волосы… Таким — желтым — все это и вышло на фотографиях Яира. В тот день он очень много фотографировал. Это был первый день моей беременности…
…Когда поезд дошел до Хадеры, мне захотелось в туалет, и я подумала: очень хорошо, что я бегаю по-маленькому так часто. Я пошла в туалет, заперла дверь на щеколду, задрала кофту и лифчик, осмотрела в зеркало грудь, затем приспустила большими пальцами трусы и проверила их еще раз. Они были белые. Потом я помочилась, вытерлась и поднесла бумажку к глазам. Ничего. Я нажала на педаль унитаза, и его зев с ревом распахнулся. Ветер… Синяя вода с запахом хлорки… Проносящиеся внизу рельсы… Обрывки туалетной бумаги на шпалах… Возникший еще в детстве страх, что засосет в эту дыру и выбросит под поезд…
Я вернулась в вагон, отыскала глазами сумку, села на свое место и инстинктивно сжала мышцы влагалища, словно пытаясь предотвратить наступление месячных. Ведь одно-единственное пятно может сразу все погубить…
Я сошла в Бат-Галим и взяла такси.
— Хотите, поедем через Стелу Марис? — спросил таксист.
— Нет, лучше через бульвар Сионизма.
Дороги, черные от дождя… Бахайский сад… Бульвар Президента… Гостиницы…
— Спасибо, — сказала я. — До свидания.
Хайфские водители пешеходов уважают: даже если возле «зебры» нет светофора, все равно остановятся и пропустят. Да и пешеходы здесь тоже люди законопослушные: терпеливо стоят, когда горит красный свет, даже если машин на дороге нет. Все, как двадцать лет назад. Именно столько я не гуляла по улицам родного города. Правда, раз в год я езжу сюда на кладбище, расположенное у подножья горы Кармель. Потом отправляюсь в Кармелию, к тете Рут. Однако на гуляния по городу времени не остается. Попью у тети чай с английским кексом — и сразу домой, в Тель-Авив. Вот уже десять лет, как мама умерла. Папа женился на Ализе, продал дом и переехал в Нагарию. Наама любит Нагарию, потому что там есть кареты с лошадьми. И Ализу она тоже любит. Называет ее «бабализа»…