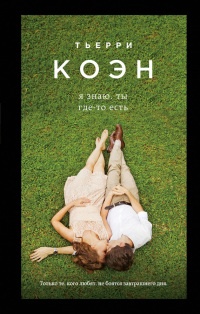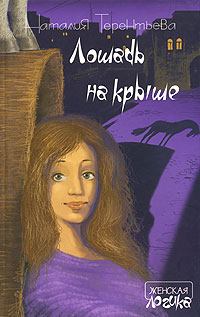Где то время, где то время, где то прекрасное время, где то чудесное время? Все перевернулось с ног на голову, Павел! Да-да! Что же случилось? Да разве поймешь!
Ладно, сначала надо выйти из машины. Руки, черт побери, трясутся, и даже холод, пробирающий до костей в подземном гараже нашего замечательного дома, не приводит меня в чувство.
Ну вот! Знаю, откуда это слово взялось! Так ведь Майка говорила: замечательно то, замечательно это. А в самом начале:
— Ах, Павча, какой ты замечательный!
Ну где, где то время?
Да, так было, именно так было, когда я приходил за ней в школу и мы гуляли, держась за руки, или когда мы сидели у нее дома одни, без родителей, а она прижималась ко мне и нежно щебетала, малышка моя Майя, вздыхая:
— Павча, милый мой Павча… — После этого всякое могло произойти. А когда происходило, она шептала: — Павел, какой ты милый, какой ты замечательный… — И гладила меня по голове.
Когда это было, когда?
А руки трясутся, и от этого я еще больше раздражаюсь, потому что я же взрослый сильный мужчина. В конце концов, я Юрист, мужчина и Юрист, и на встречах ко мне обращаются «пан адвокат». Я успешный мужчина, который из любой ситуации выходит победителем. Потому что у меня есть Выдержка! Выдержка — мой конек! А тут вдруг руки трясутся, из машины не могу выйти.
Как же мне жаль моего любимого автомобиля!
Да, любимого, да, Павел, серьезно! Я и такие слова могу найти на своем жестком диске, хотя и непонятно, как они могут появиться на моем мониторе и можно ли их использовать по отношению к автомобилю. По отношению к классному автомобилю с роскошным салоном, с мотором огромной мощности и прямым впрыскиванием топлива. И все это нужно для того, чтобы обращать на себя внимание и быть на уровне, соответствовать своему статусу, профессиональному и жизненному. Плачь, Павел, плачь. Бедный мой автомобильчик! Больше всего я люблю свой автомобильчик. Что ж, видно, по-другому и быть не может, потому что такова мужская доля. Да, Павел, — любить можно только свой автомобиль. Ведь только он может понять такого мужчину, как ты. Он не будет задавать дурацких вопросов и не скажет: садись, нам надо поговорить.
Бедный! Наверное, у него весь правый бок разбит. А руки у меня трясутся, и выйти страшно, боюсь на это смотреть. Веду себя как последний слюнтяй, а не мужчина, и украдкой все посматриваю направо, но вижу только сломанное боковое зеркало, поникшее на проводке, как повисший член. Я сейчас, наверное, разрыдаюсь, поскольку от всего этого, Павел, хочется разрыдаться. Да, Павел, когда разбит любимый автомобиль, любой мужчина разрыдается. Не стыдись этого, Павел! Ты не какой-нибудь молокосос или слюнтяй. Плачь, Павел, плачь. Даже Дед плакал, когда его любимому жеребцу попали в зад под Сточеком.[1]
Но как же такое могло случиться, что я — опытный, аккуратный, уверенный и спокойный водитель — попал в такую ситуацию? Въехал на тротуар и сбил столбы ограждения.
А все из-за этой мымры, из-за того, что она позвонила и отвлекла меня. На самом деле я отличный водитель, образцовый водитель, а по сравнению с другими вообще лучший. Я из тех, кто любит управлять всякими движущимися устройствами, я все движущееся, гудящее и сигналящее люблю с детства. А лучше всего я управляю автомобилем, когда говорю по телефону. Я бы, конечно, мог установить себе беспроводную связь, но что я, молокосос, что ли, чтобы через эту штуку разговаривать? Управлять автомобилем надо с телефоном в руке, и не с одним! Каждый молокосос может водить машину, болтая по одному телефону! А я за рулем порой говорю одновременно по трем мобильникам. Случается даже, что, когда я в дороге, мне, преуспевающему Юристу, звонят и просят проконсультировать, а иногда звонят несколько человек сразу, и даже из-за рубежа звонят, чтобы посоветоваться. И тогда я говорю и по-польски, и по-английски, и на многих других языках — еще бы, ведь я выпускник юридического факультета известного университета, — говорю и одновременно управляю автомобилем, слежу за дорогой, и в зеркало заднего вида поглядываю, и чувствую себя при этом превосходно! Обожаю управлять автомобилем с тремя телефонами в руках, добавляю газу и смотрю на руль, а он меня слушается! Но не тогда, когда звонит Теща!
— Павлик, дорогой, это я, мама, — сказала она, и хорошо, что она это сказала, ведь я мог бы не узнать ее сверлящий голос — голос, не терпящий возражений и в то же время такой спокойный, что от этого спокойствия может удар хватить. Женская, так сказать, деликатность! А возрази ей, скажи что-нибудь такое, что ей не понравится, так этот голос своим спокойствием и деликатностью просверлит тебя насквозь. И ты теряешься, и превращаешься в повисший член!
— Слушаю вас, мама! — отозвался я, стараясь сохранять спокойствие, и переложил телефон в другую руку, поскольку надо было переключить скорость. — Что-то случилось? — спросил я и снова переложил телефон, потому что я всегда перекладываю его, когда за рулем.
— Павлик, это не телефонный разговор, — продолжала она своим спокойным, заботливым голосом, а меня уже тошнить стало, и я снова был вынужден переложить телефон в другую руку, чтобы отвлечься и не дать тошноте одержать надо мной верх, и мне уже начало казаться, что у меня несколько рук.
Вот когда управление автомобилем начинает доставлять удовольствие — когда мобильник перелетает из одной руки в другую, в третью и даже четвертую, а я чувствую, что могу все, поскольку у меня несколько пар рук, как у Терминатора, сражающегося с Врагом. Так вот, я снова перекладываю телефон и уже собираюсь резонно заметить, что если это не телефонный разговор, то зачем она звонит?
— Павлик, это не телефонный разговор, — еще раз повторила она, словно я глухой. — Я хочу к вам приехать. Знаю, у вас уже давно не все в порядке, — быстро проговорила Теща.
Это уже было слишком. Я даже перестал перекладывать телефон из одной руки в другую и снова почувствовал, что у меня их всего лишь две, как у каждого. От этого я совсем ослаб и растерялся, чего, как Юрист, мужчина и человек, очень не люблю.
— Хочу помочь вам наладить отношения. Что скажешь, Павлик? — спросила она еще более спокойным тоном, еще более теплым и тихим голосом — в результате у меня чуть телефон из руки не выпал.
— Да, — ответил я, а что еще я мог сказать? С каждым мгновением я ослабевал, превращался в молокососа!
— Майя ничего об этом не знает, — продолжала Теща. — Это моя идея. Я решила сначала с тобой поговорить. Сяду в трамвай, приеду и поговорим, может быть, втроем. — И чуть повысив голос, добавила: — Возможно, мне удастся ее образумить.
Образумить ее! Представляю, как это будет выглядеть! И изо всех сил надавил на газ. А что я мог ей сказать? Что не хочу ее видеть, что пусть проваливает, что мне не нужна еще одна женщина, которая хочет разговаривать, обсуждать, выяснять! Которая будет задавать какие-то вопросы и вздыхать, и смотреть, и снова говорить своим тихим голосом: «Павел, давай поговорим, обсудим». Я уже было хотел крикнуть: «Вон! Чтоб твоей ноги в моем доме не было!» Но жесткий диск моего мозга выдал на монитор слова «мать», «мама», «мамочка», «мамуля», которые стали пульсировать красным шрифтом. В горле пересохло, ведь Мать — понятие святое, образ, заслуживающий наивысшего уважения. Каждая мать, даже Майкина. И тут же на мониторе появилась еще одна фраза: «О, Божия Матерь Ченстоховская».[2]И я промолчал, только зубы стиснул. Потому что еще раньше Теща не раз говорила: ты мне как сын, потому что своего, родного, у меня нет, только Майя. И я не раз замечал: она недовольна дочерью. Не знал, как мне быть, на чьей она стороне, но лучше бы не приезжала. А внутри нарастала злость, и я снова надавил на газ.