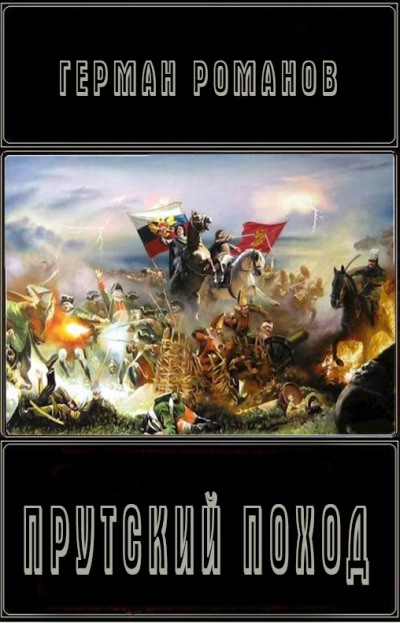Книга Третий шанс - Герман Иванович Романов

- Жанр: Научная фантастика / Разная литература / Фэнтези
- Автор: Герман Иванович Романов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Март 1904 года - начавшаяся война с Японией неизбежно поставит Россию на «колени» - позорное поражение, за которым грянула «смута». Никто тогда не знал, что через десять лет начнется ужасная мировая бойня, которая приведет к новой революции, неизбежному крушению царизма и старых порядков, каковые казались «вечными» и незыблемыми. И лишь выброшенные на «помойку истории» прежние властители, на склоне прожитых лет, стали сожалеть о своих деяниях. Многим хотелось бы вернуть себя в прошлое, исправить допущенные ошибки, когда собственными помыслами и руками погубили империю. Поздно – судьба им дала второй шанс после 1905 года, но они его бездарно профукали, должные выводы не сделали, и наступил «красный» семнадцатый год. А ведь когда кто-то сильно хочет, судьба может предоставить ему следующую попытку. Редкостные «счастливцы» получают право на третий шанс…
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Третий шанс - Герман Иванович Романов», после закрытия браузера.