Книга Родители, наставники, поэты - Леонид Ильич Борисов
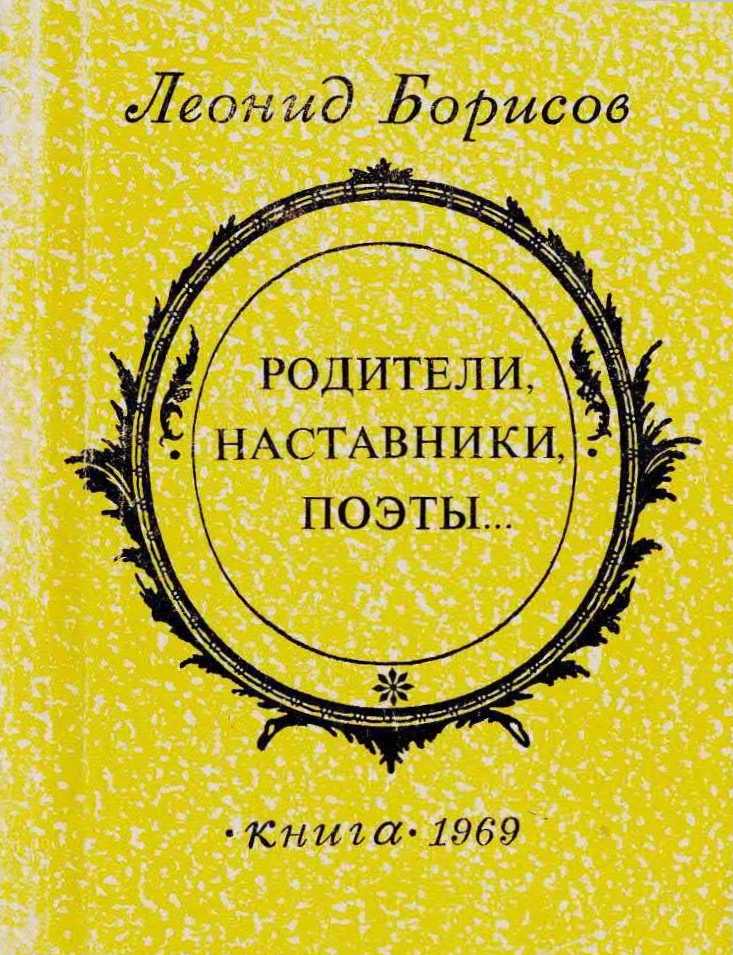
- Жанр: Книги / Разная литература
- Автор: Леонид Ильич Борисов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Леонид Борисов известен читателю своими книгами — «Волшебник из Гель-Гью», «Щедрый рыцарь», «Свои по сердцу» и др. Он создает поэтичные и увлекательные образы людей искусства: Грин, Стивенсон, Жюль Верн, Рахманинов — любимые его герои. И не случайно ему оказалась так близка тема «книга в моей жизни». «Родители, наставники, поэты» — это задушевное, лирическое повествование о том, как книга вошла в жизнь мальчика из бедной ремесленной семьи и стала другом и радостью навсегда. О том, как мальчик рос, встречал на своем пути людей, одержимых книгой, страстно влюбленных в пес, о том, как они помогли ему от Пинкертонов и прочих дешевых поделок подниматься со ступеньки на ступень к высшим ценностям настоящей художественной литературы, понять и полюбить прекрасные произведении русской и зарубежной прозы и поэзии. Книга стала ему опорой в трудные минуты, пробудила желание стать писателем, человеком, делающим книгу и прививающим любовь к ней своим читателям. Эта лирическая исповедь книголюба не стремится дать ни картину эпохи, ни полную автобиографию писателя, Книга эта, как всякие мемуары, очень личная. Но пульс ее, ее главная струна — страстная, трепетная любовь к книге, и это — как подтвердили многочисленные отклики на ее первое издание — привлекает к ней взволнованное внимание читателей.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Родители, наставники, поэты - Леонид Ильич Борисов», после закрытия браузера.
























