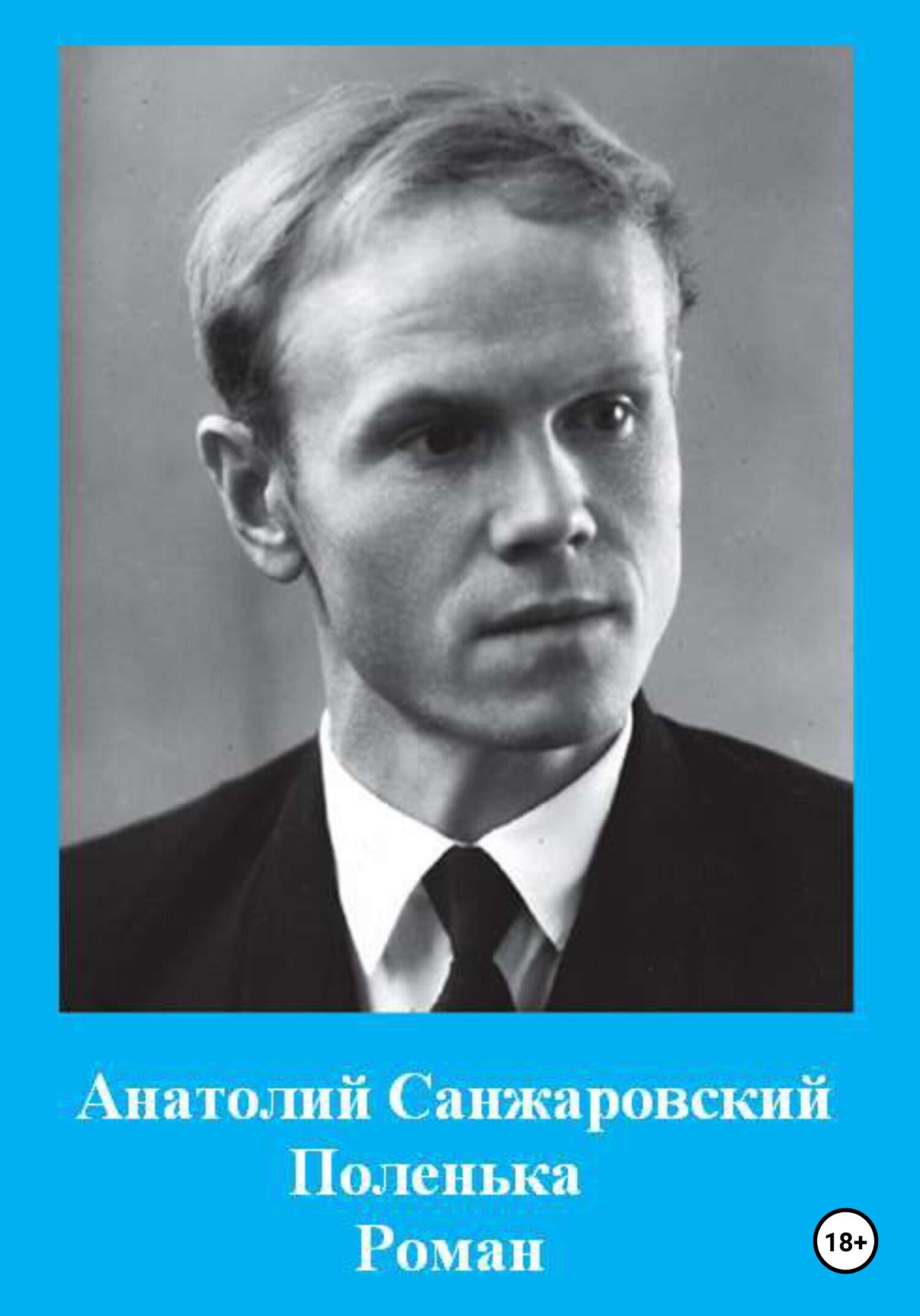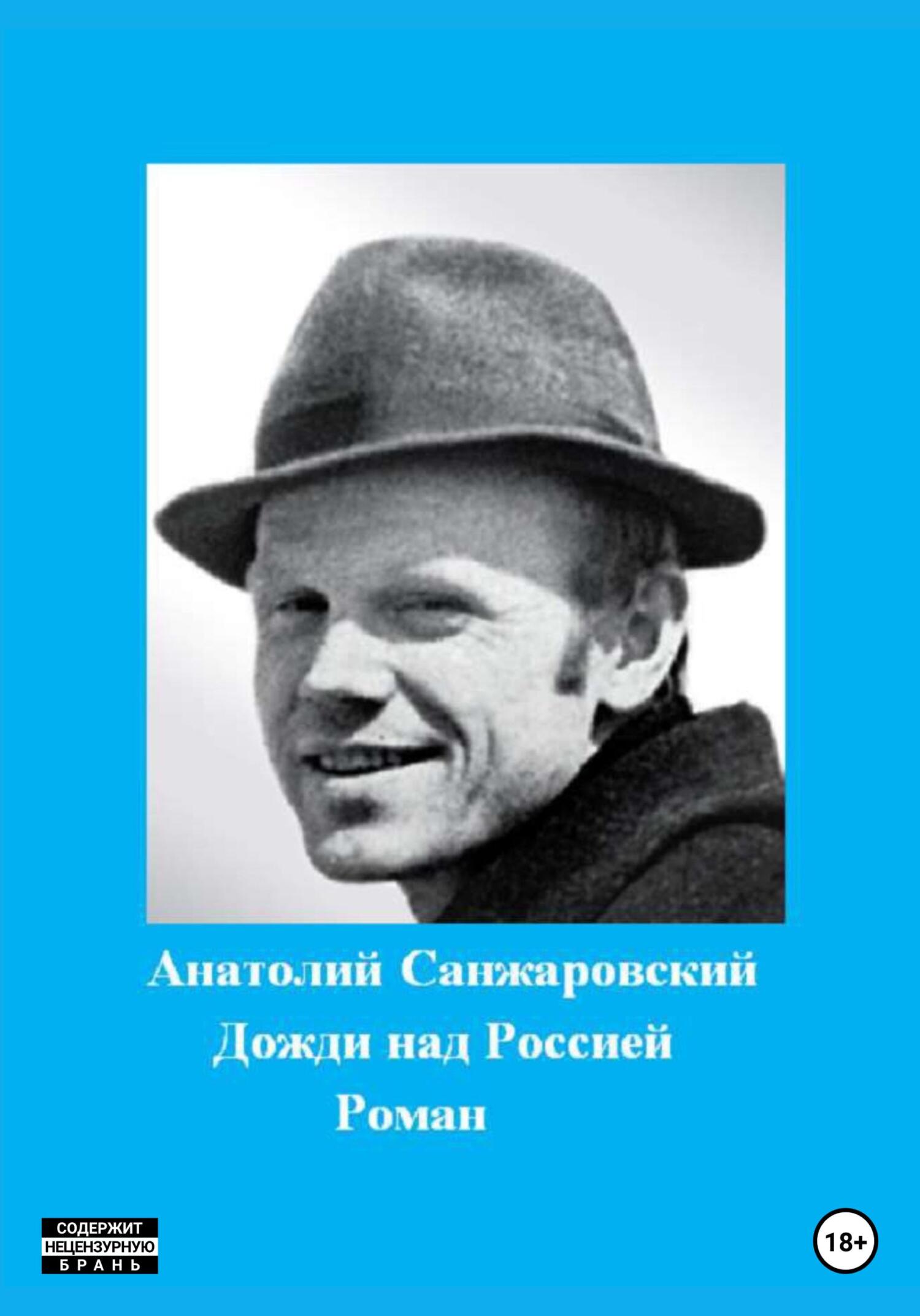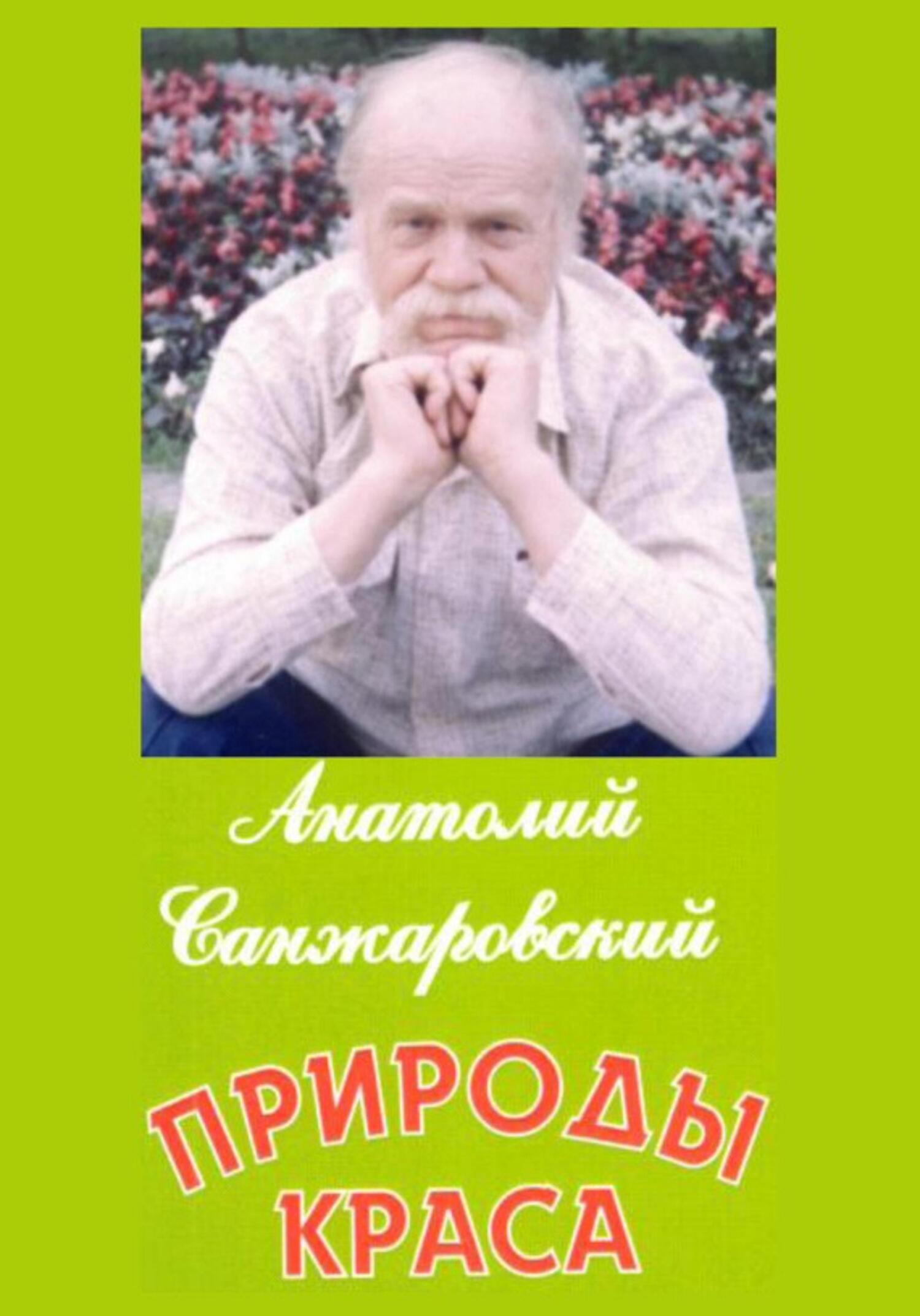Книга Жених и невеста - Анатолий Никифорович Санжаровский

- Жанр: Разная литература / Классика
- Автор: Анатолий Никифорович Санжаровский
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
«Жених и невеста» — роман о деревенских стариках, пронёсших через всю жизнь высокое чувство любви. Лауреат Ленинской премии Егор Исаев написал предисловие к этому произведению: «Насколько это неожиданно, настолько и знакомо одновременно. Я лично в названии повести А.Санжаровского увидел себя в далеком воронежском детстве. В этом словосочетании есть и озорное и серьезное — это как весна перед летом — да и все, собственно, в этой небольшой повести как весна перед летом, в ощущении близкой осени и зимы. Язык повести почти поговорочный — много за словом, над словом, в его глубине. Как велит язык, как велит чувство, так возникает характер. Два характера, две судьбы, но как они близки друг другу, сердцем близки. Хочется любить, верить, а это уже немало и для жизни и для писателя».
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Жених и невеста - Анатолий Никифорович Санжаровский», после закрытия браузера.