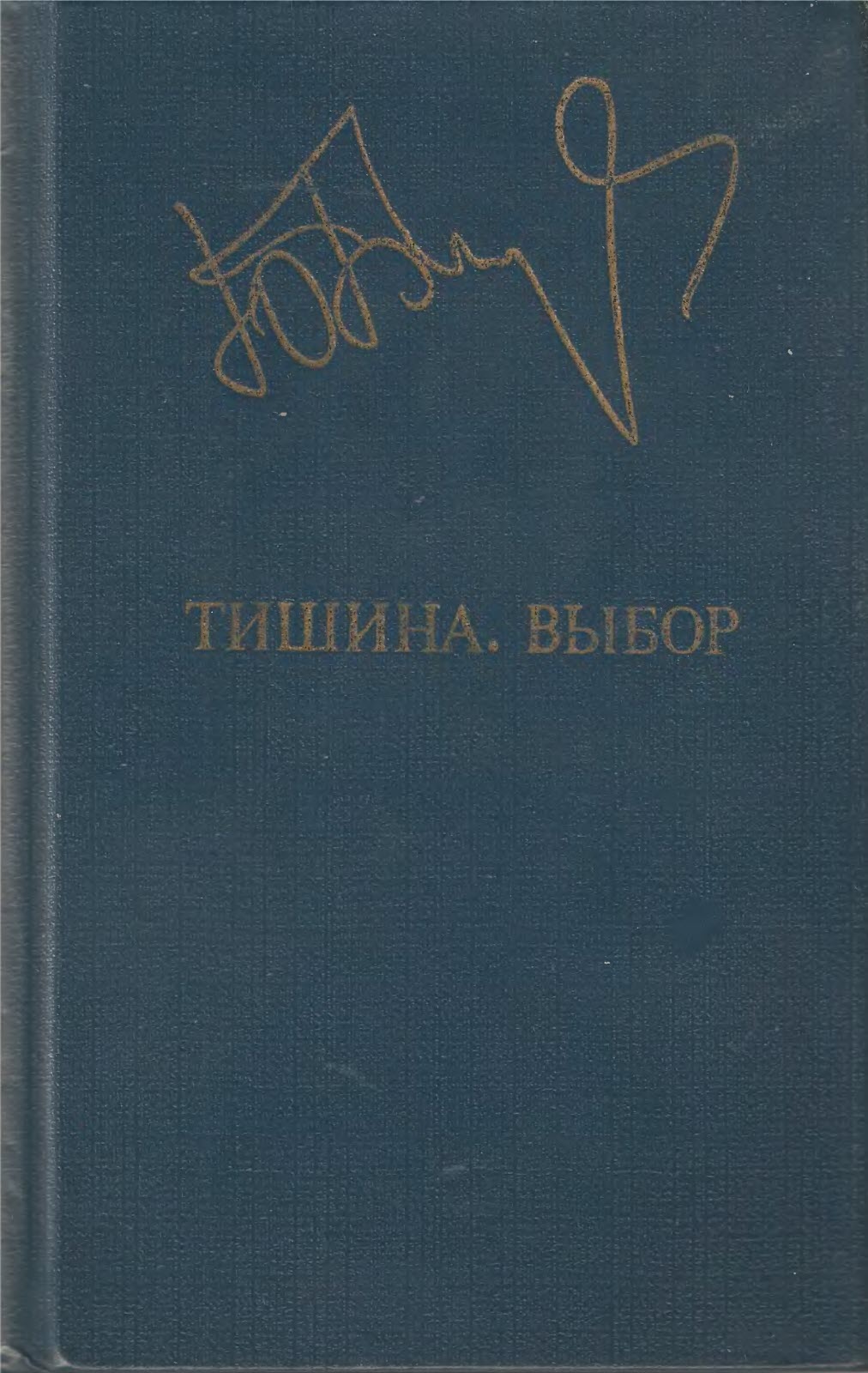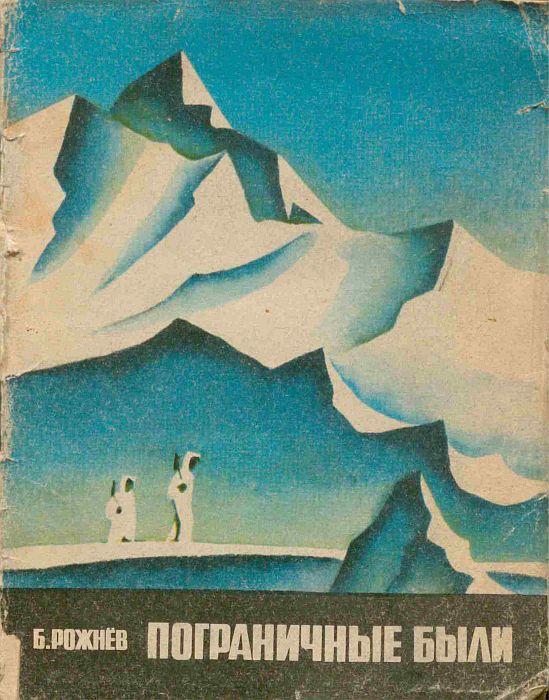Книга Тишина - Юрий Васильевич Бондарев

- Жанр: Книги / Классика
- Автор: Юрий Васильевич Бондарев
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
В романе «Тишина» рассказывается о том, как вступали в мирную жизнь бывшие фронтовики, два молодых человека, друзья детства. Они напряженно ищут свое место в жизни. Действие романа развертывается в послевоенные годы, в обстоятельствах драматических, которые являются для главных персонажей произведения, вчерашних фронтовиков, еще одним, после испытания огнем, испытанием на «прочность» душевных и нравственных сил.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Тишина - Юрий Васильевич Бондарев», после закрытия браузера.