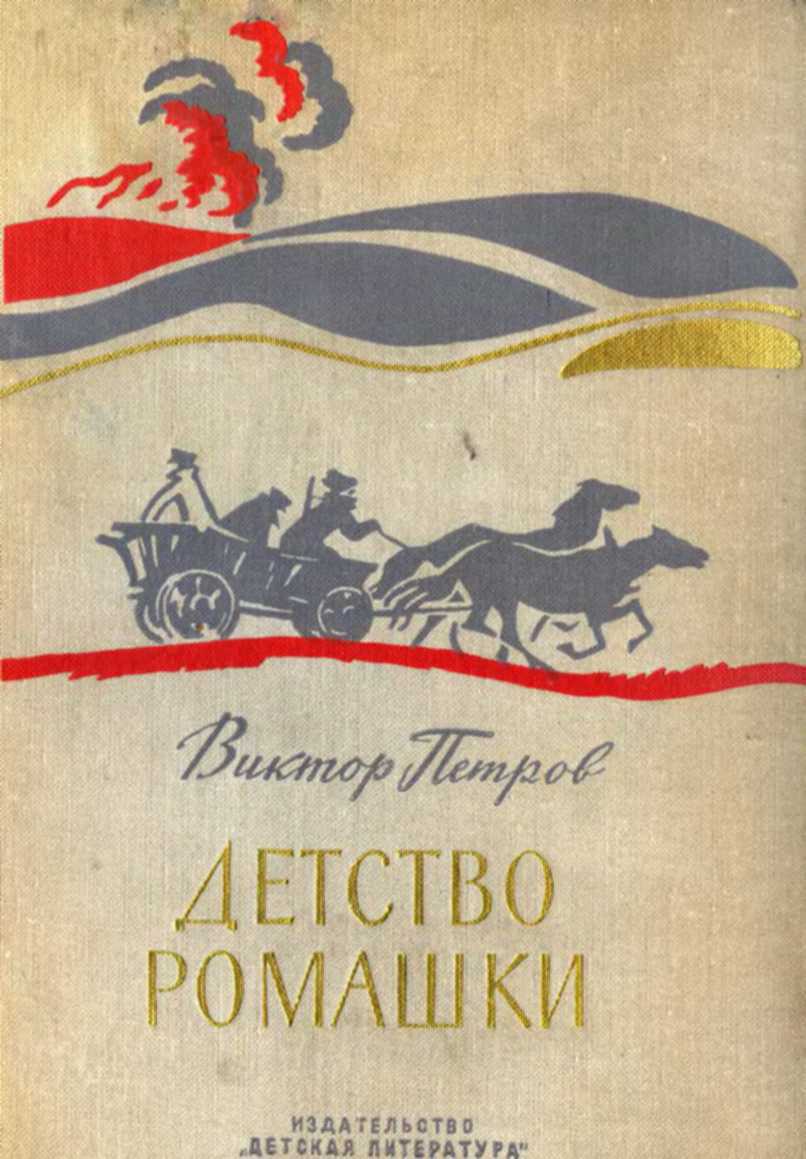Книга Лицо войны. Военная хроника 1936–1988 - Марта Геллхорн

- Жанр: Приключение / Военные / Разная литература
- Автор: Марта Геллхорн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Американская журналистка Марта Геллхорн была свидетельницей крупнейших военных столкновений XX века: от гражданской войны в Испании до Второй мировой, от советско-финской до арабо-израильской войны, от американского вторжения во Вьетнам до конфликтов в Сальвадоре и Никарагуа в 1980-е. Презирая ложь официальных пресс-релизов, Геллхорн везде лезла в самое пекло, общалась с солдатами, ранеными и беженцами и писала, как выглядит война для простых людей, попавших в ее жернова. Авторский сборник репортажей «Лицо войны», охвативший почти пятьдесят лет кровопролития и безуспешных попыток установить прочный мир, – резкое, как пощечина, высказывание о состоянии человечества, ничуть не устаревшее и за следующие полвека.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Лицо войны. Военная хроника 1936–1988 - Марта Геллхорн», после закрытия браузера.