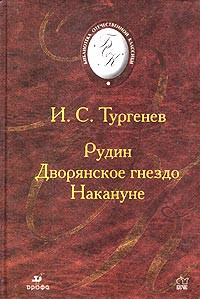Книга Пять допросов перед отпуском - Виль Григорьевич Рудин
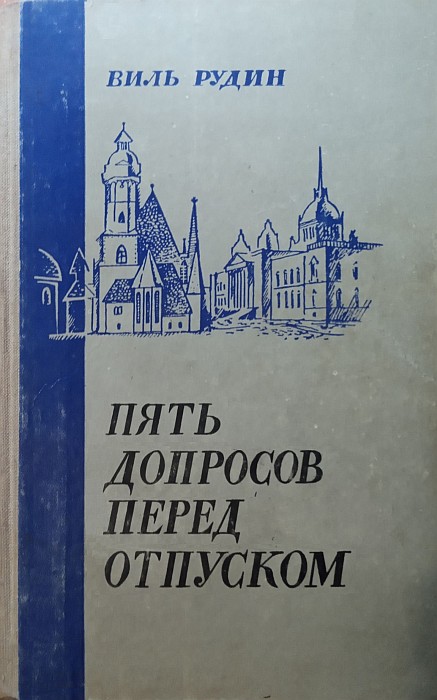
- Жанр: Приключение / Классика
- Автор: Виль Григорьевич Рудин
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Эта книга создана автором на материале, собранном во время пребывания в Восточной Германии в первые годы после разгрома фашизма. В повести убедительно показаны общественная атмосфера Германии тех лет, настроения рядовых немцев, подлинный гуманизм советских воинов-освободителей. В центре повествования — образ советского офицера майора Хлынова. Настоящий коммунист, человек высших моральных качеств, помогающий населению немецкого городка вступить на путь строительства новой жизни, майор Хлынов становится объектом провокации вражеской разведки, но с честью выдерживает трудное испытание.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Пять допросов перед отпуском - Виль Григорьевич Рудин», после закрытия браузера.