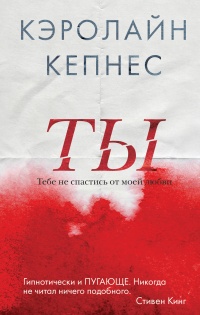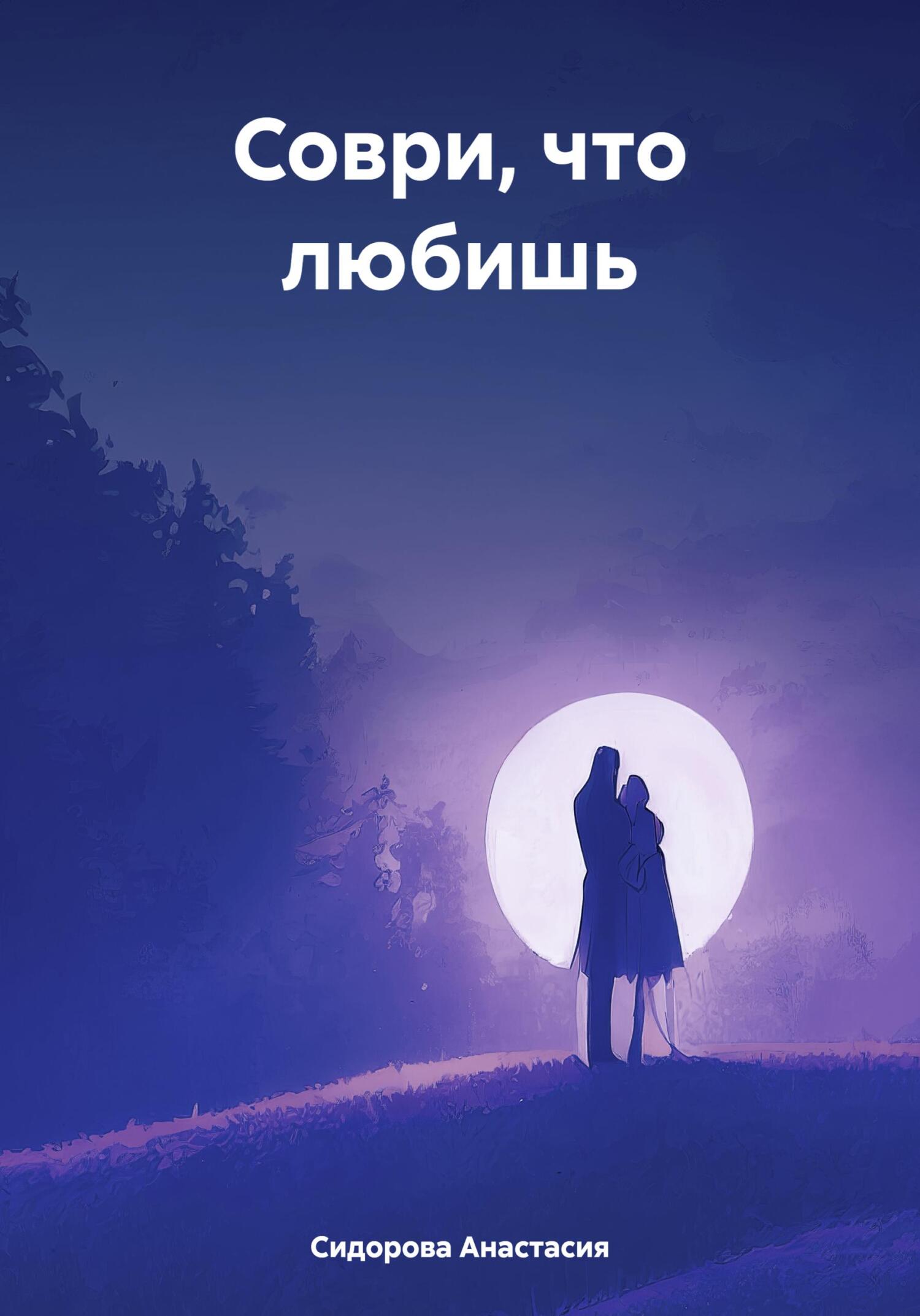Книга В землянке - Лиана Рафиковна Киракосян
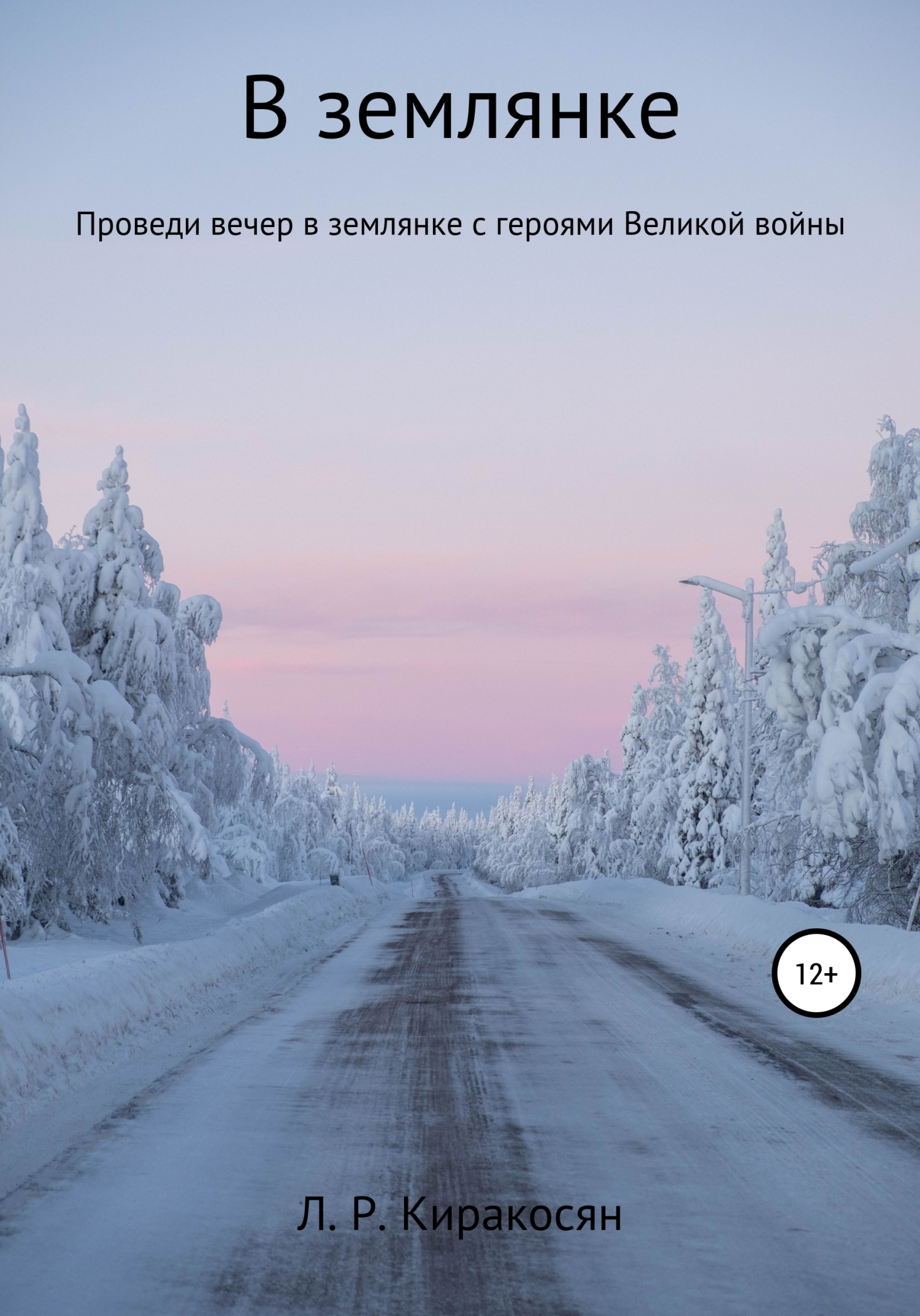
- Жанр: Военные / Классика / Триллеры
- Автор: Лиана Рафиковна Киракосян
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Война – это не только тяжелые бои, опасные диверсии и подвиги героев, пожертвовавших собой ради счастливого будущего грядущих поколений. Это еще и обыкновенные, спокойные вечера, проведенные в землянках между боями. Хотелось бы Вам оказать в одном из таких и увидеть собственными глазами этих людей, узнать их судьбы, и услышать, о чем они говорят и думают? Тогда этот рассказ для Вас. В нем рассказывается о самом обычном вечере в самой обычной землянке во время самой жестокой и беспощадной войны.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «В землянке - Лиана Рафиковна Киракосян», после закрытия браузера.